Почему ментальное здоровье военных настолько важно. Исторический экскурс

Одним из фундаментальных направлений, которые реализуются в большинстве ведущих армий мира, становится направление психо-социальной работы
19 век
19 век продемонстрировал важность развития военной медицины для способности армии одержать победу. Причем, если начало века подталкивало к необходимости развития полевой хирургии и гигиены, то следующие десятилетия побуждали к всестороннему развитию военной медицины (травматологии, санитарии, даже стоматологии) и инфраструктуры. Развитие таких медицинских «услуг» всегда шло сверху вниз по социальным ступенькам. Сначала качественное лечение касалось только офицерского состава – операции, направленные на сохранение, а не ампутации конечностей, качественный уход и реабилитацию с использованием не только медикаментозных, но и культурных факторов (концерты для раненых). Но постепенно подобные «услуги» становились доступны и для сержантского состава профессиональных армий, а затем дошли и до широкого круга солдат и мобилизованных резервистов.
Поэтому 19 век сформировал понимание необходимости развития широких госпитальных практик, медицинского сопровождения и реабилитации раненых, необходимости сохранения конечностей, привлечения широкого круга населения к оказанию парамедицинских или не медицинских услуг. В передовых странах развиваются навыки мобилизовать не только военных, но и гражданских специалистов (врачей, медицинских сестер), создаются общины сестер-милосердия, привлекаются меценаты для формирования временной инфраструктуры лечения.
К 20 веку тогдашние армии подошли с пониманием, что для нормальной войны им понадобятся собственные военные врачи, квалифицированный медицинский персонал, развертывание полевых военных госпиталей и общество, готовое помогать с лечением и физической реабилитацией.
Первая мировая
Первая Мировая война перемолола представление о современной войне и впервые продемонстрировала масштаб психической травмы. К этому никто не готов.
Раньше если солдат не был убит или ранен, он продолжал свою службу. Но пулеметы, смертельные атаки на колючую проволоку, ядовитые газы и многодневные артиллерийские обстрелы наносили еще и психические потери. Изменился не только характер войны, но и характер потерь.
Общее количество психических потерь в воюющих армиях достигало числа погибших. Более того, неуравновешенные и психически травмированные солдаты с военными неврозами и психозами оказали такое деморализующее влияние на окружающих, что их пытались держать в закрытых психических больницах подальше от других военных или гражданских. Они были лишены не только расширенного перечня заботы в виде сестер-милосердия, подарков или визитов достопочтенных персон, но и вообще нормального психического и даже медицинского лечения. Гражданская психиатрия не была готова ни к таким случаям, ни к такому количеству больных. А военная психиатрия почти отсутствовала.
Армия, проигрывающая войну, страдает не только от пуль или штыков. Нравственные и психологические травмы всегда сопровождали проигрыш во все времена у всех народов. Но Первая Мировая продемонстрировала не только масштаб психических потерь, но и их всесторонний характер. От необъятного количества психически больных страдали и проигравшие войну армии и армии победивших стран.
Первая Мировая актуализировала вопросы ментального здоровья и легитимизировала военную психиатрию. Готовясь к следующим войнам, новые участники понимали, что без достаточного количества специалистов-психиатров современная армия не способна поддерживать ни свое моральное состояние внутри, ни свой имидж извне. Развитое общество требует всесторонней заботы о своих военных, в том числе и с точки зрения психического здоровья и восстановления.
Поэтому перед Второй Мировой военные ментальные специалисты готовились к повторению психических ужасов Первой Мировой.
Вторая мировая
Вторая Мировая продемонстрировала не столько новый уровень военного ужаса (за исключением концентрационных лагерей и атомных бомбардировок, но эти акты происходили не на линии столкновения и на военных напрямую не влияли), сколько разнообразие способов решения вопросов психической стойкости и психического лечения военных.
Формально практически все страны-члены осознали уроки Великой Войны (как называли Первую Мировую до того, как началась Вторая). Военные медицинские академии активно готовили военных психиатров, военкоматы составляли списки гражданских специалистов-психиатров, которых следует привлечь в армию в случае мобилизации, в ведущих армиях появились первые наставления для офицеров по реагированию на случаи психозов или неврозов у подчиненных. А еще большую работу провела военная психиатрия для формирования протоколов по выявлению симулянтов. Ибо ментальные потери стали значимым фактором, который «косил» ряды военных не хуже вражеских пулемётов.
На практике же практически все основные включившиеся в войну политические режимы использовали несколько разные методы работы с ментальной составляющей здоровья своих армий.
Соединенные Штаты и Великобритания действительно создавали разветвленную систему психиатрической помощи. Практически в каждом тыловом госпитале были психиатрические отделения. Фронтовые военные госпитали имели если не отделение, то как минимум полноценного психиатра. Большое количество военных врачей проходили соответствующий «базовый курс» по военной психиатрии. Даже офицерский и сержантский составы овладевали терминологией психиатров и относительно неплохо реагировали на различные проявления психических расстройств у своих подчиненных. Именно практики США и Британии станут на длительное время эталоном формирования ментальной стойкости войск по всему миру.
Нацистская Германия также активно работала над повышением качества психиатрического сопровождения. Но базовый упор был сделан на соответствующую идеологическую подготовку как войска, так и общества в целом. Культ силы и самоуверенности влияли на моральный дух, что несколько снижало влияние негативных психогенных факторов психических потерь.
Как развивалась ситуация в Италии и Японии сказать не могу, но эти два государства так же как и Нацистская Германия пропагандировали культ здорового тела и разума, идеологию собственной исключенности и готовности не только преодолевать все жизненные трудности (в том числе и ментальные), но и стремиться встречи с ними. Из итальянцев, правда, вышла этакая армия, а японцы смогли продемонстрировать самурайский дух в полную силу. От поражения это их не уберегло, но случаи фанатической ненависти и стойкости до сих пор держат марку.
Советский союз пошел вообще по другому пути. Расстрельные тройки, штрафные роты и батальоны, приказ 227 – все это вместе не искореняло проблемы, но позволяло избавляться от людей, которые теряли способность воевать. Их просто расстреливали. По данным по советско-финской компании 1939-1940 годов чуть ли не каждый третий погибший лейтенант был расстрелян за проявление трусости своей или своих подчиненных. Среди рядовых красногвардейцев количество расстрелянных тоже было немалым.
В дальнейшем был даже принят знаменитый приказ №227 «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрет самовольного ухода с боевых позиций», который называли «Нет шагу назад». Иногда по требованию этого приказа расстреливали не по факту ухода, а просто из соображений профилактики. Эта «культура» в современной русской армии проявляется до сих пор.
Сама же проблема психических расстройств в советской армии того периода вообще не замечалась. Это приобрело такой размах, что даже и через 80 лет после той войны в современной русской культуре вообще отсутствует военный психиатр как самодостаточный персонаж военного эпоса. Ни тогдашние, ни современные литературные и кинематографические произведения не используют фигуру специалиста по ментальному здоровью или восстановлению. Военная культура русского общества формирована без этой важной фигуры.
Вторая Мировая заложила основы «правильных» практик работы с психическими потерями. Страны победители (за исключением СССР) продемонстрировали их эффективность и к следующим войнам человечество подошло с пониманием важности и правильности применения чисто психиатрических практик в вопросах психических потерь. Хотя это все равно была подготовка к прошедшей войне.
Вторая половина 20 века
Вторая половина 20 века сменила тип военных действий. Кардинально нового в нем не было. Произошла очередная ротация типа войны. Вьетнамская и Афганская войны были не типичными для 1 и 2 Мировой, но достаточно знакомыми военными практиками борьбы с партизанскими движениями. Но эти войны продемонстрировали необходимость очередного изменения подхода к работе с ментальным здоровьем военных.
В этих конфликтах армии США и СССР имели тотальное военно-техническое превосходство и полное воздушное господство. Но применить эти преимущества не получалось. Некоторые роды войск вообще не использовались, что приводило к глобальной потере боеспособности таких подразделений именно потому, что они были не нужны. В Афганскую войну основные потери среди личного состава зенитчиков или ПВОшников происходили из-за неосторожного обращения с оружием или пьянства. Также «страдали» и соответствующие подразделения американского контингента во Вьетнаме. Танкисты не сталкивались в бою с вражескими танками, но погибали из-за минирования или применения гранатометов. Пилоты несли потери не из-за дуэли с вражескими пилотами, а из-за наземного огня, который могли вести как профессиональные военные инструкторы из СССР, так и обычные вьетнамцы без профессиональной подготовки, но с советским пулеметом в зарослях.
А вот войска логистики, службы тыла, например, столкнулись с полностью боевыми потерями на таких уровнях, которых никогда до этого не было именно из-за изменения характера боевых действий.
Все боевые действия сводились к рейдам небольших подразделений (в горы или джунгли), статическую охрану объектов или логистических маршрутов и контроль за населенными пунктами. Войскам великих держав противостояли только партизанские формирования с стрелковым оружием и тактикой коротких боевых столкновений. Но на стороне партизан была полная поддержка населения.
В таких условиях, когда линия фронта практически отсутствует, а техническое преимущество не дает никаких преимуществ в реальном бою, когда инициатива полностью принадлежит партизанам, которые могут оказаться кем-либо и появиться где угодно и в любой момент, из-за этого изменился и характер ментальных. потерь.
Армия начинала терять боеспособность не из-за психических, а из-за моральных потерь. Длительный стресс, необходимость видеть врага во всех окружающих местных, невозможность нанести ответный удар или невозможность честного поединка с равным противником – все это подтачивало морально-психологическое состояние войск.
Партизанская война требовала применения карательных мер и это разрушало морально-нравственную составляющую солдат и офицеров. Не военный психоз, а социальный стресс стал основным фактором небоевых потерь. Распространялась наркомания и алкоголизм. Армия нуждалась в наркологах, а не психиатрах.
В этот момент гражданское общество как США, так и СССР все больше разочаровалось как в самой войне, так и в своих военных. В США война вызвала откровенные протесты. В СССР речь шла о «кухонной» антипропаганде. Но и там и там никакой поддержки военным гражданское общество не демонстрировало. В США ветеранов откровенно обвиняли в убийствах женщин и детей. В СССР ветеранов афганской войны откровенно боялись.
Среди военнослужащих и ветеранов распространялись социальные «болезни» – наркомания, алкоголизм, социальная дезадаптация, невозможность адаптироваться к мирной среде и многое другое. Уровень потерь после войны превысил боевые потери. Самоубийства и деструктивное поведение унесли после войны больше жизней, чем партизанские шары и мины.
Можно сказать, что Вьетнамская и Афганская войны подарили человечеству ПТСР. Традиционная военная психиатрия не могла справиться с валом новых факторов ментальных потерь. Общество должно было отреагировать иным образом. И оно включилось в новый раунд гонки ментальных вооружений. Последующие военные конфликты современные армии уже встречали с целыми бригадами военных психологов и социальных работников.
Современность
Последующие войны продемонстрировали как эффективность, так и ошибочность модели применения военных психологов и социалистов в оперативно-стратегических масштабах. Число военных психологов быстро превысило численность военных психиатров. Военные ВУЗы начали программы подготовки соответствующих специалистов – военных психологов. На уровне бригад создаются центры ментального здоровья, создаются центры помощи жертвам сексуального насилия в армии, центры конфликтов и примирений, центры помощи лицам с девиантным поведением, центры усовершенствования черт характера, службы анонимной помощи и т.д.
Одним из фундаментальных направлений, реализуемых в большинстве ведущих армий мира, становится направление психо-социальной работы. В Армии Израиля создают центры реабилитации и поддержки ветеранов. В Соединенных Штатах развиваются программы помощи ветеранам вооруженных конфликтов. Германия и Великобритания открывают направления социальной реабилитации и реинтеграции ветеранов в гражданскую среду, хотя не имеют никакого интенсивного военного конфликта за многие десятилетия.
Переход от 20 до 21 века создал в военной среде понимание, что работа по восстановлению ментального здоровья во-первых должна быть пролонгирована на период, когда военный увольняется со службы и адаптируется к мирной жизни, а во-вторых, эта работа должна включать компонент социальной. адаптации, которая должна начинаться задолго до увольнения.
Но существует и обратная сторона проблемы.
В своей книге «Племя» американский военный журналист Себастьян Юнгер описывает противоположный социальный эффект от концепции заботы – чем менее кровавый конфликт, в котором принимает участие армия США, тем большее количество диагнозов ПТСР с соответствующими денежными выплатами и социальными льготами получают ветераны. Выходит, что созданная система социальной реабилитации превращает ветеранов в пожизненных инвалидов, которые до конца жизни сидят на выплатах и не пытаются интегрироваться в жизнь, наполненную ответственностью перед самим собой.
Фактически мы видим, что эволюция военной психологической службы проходит определенные этапы, связанные как с общим изменением характера войны, так и с развитием общественных отношений. Кроме того, на изменение парадигмы сохранения ментального здоровья оказывают влияние дополнительные факторы в виде политической ситуации, тех или иных социальных событий, а также успешные практики победной стороны.
Это означает, что на наши решения относительно того, какие практики использовать в лечении и реабилитации военных, также влияет инерция этих факторов. Очень просто скопировать существующие технологии и инструменты и применить их. И система (не только государственные органы, но и общественные или профессиональные сообщества) чаще всего движется именно по такому пути без глубокого осознания полученного опыта и без критического восприятия. Но подойдут ли практики, писавшиеся на базе войны с партизанами для нашей войны – большой вопрос.



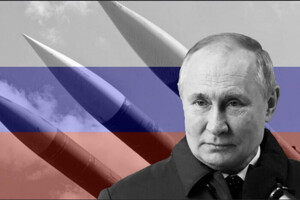













Коментарі — 0